РЮРИКОВИЧИ. Иоанн III. Великий.

Год 1440. Уже 15 лет идёт изнурительная династическая война. Князь Василий II, внук Дмитрия Донского, сражается за власть. А тем временем огромное Великопермское княжество уже собирается стать отдельной державой. Поволжские княжества, измотанные татарскими набегами, склоняются в сторону Орды.
А Новгород посматривает в сторону Великого княжества Литовского. И нет на московском престоле человека, который сумел бы удержать страну от распада. В тот год, зимой в маленьком монастыре под Новгородом блаженный инок Михаил, Христа ради юродивый, произнес смутное пророчество: "Днесь у великого князя на Москве радость... Родися великому князю сын... И будет наследник отцу своему, и разорит он обычаи нашей земли Новгородской, и многим землям страшен будет" 22 января у великого князя Василия родился сын, которого нарекут Иоанном. Современники будут называть его Грозным. Но со временем это прозвище перейдет его внуку, а сам он войдёт в историю с именем Великий.
Ивану было всего 5 лет, когда его отец потерпев очередное поражение, попал в татарский плен. Он вскоре вернулся, обещав хану огромный выкуп, но Москва выступила против князя, опозорившего себя пленом. Василий был свергнут с престола, ослеплен и заключён под стражу в дальнем Угличе. Теперь его именовали Василий Темный. 6 летний Иван видел, как слепой и беспомощный отец сумел выбраться из бездны отчаяния, как он собрал союзников и вопреки всему вернул себе Московский престол. Но Василию нужен был помощник. И 8 летний Иван был объявлен соправителем отца и великим князем.
Детства у него не было. Ему приходилось всегда находиться рядом с отцом, быть его правой рукой, помощником и повадырем. В 12 лет он впервые возглавил войско и вернулся с победой из дальнего похода. А в 22 года, после смерти отца, стал полновластным правителем. Он взошел на престол спокойно и буднично. Заключил союзный договор с Тверским княжеством, купил у обедневшего Ярославского князя права на его земли, на рязанский престол посадил своего родственника и заключил союз с крымским ханом... К 27 годам Иван понял, что титул великого князя Московского ему тесноват. Повысить статус помогла бы невеста из европейского королевского дома. К этому времени князь Иван уже два года вдовел, его жена, молодая княгиня Мария Борисовна умерла. Сразу после похорон по всей Европе были разосланы люди великого князя, которые должны были найти ему знатную невесту. И вот в Москву от папы римского прибыло посольство с грамотой, в которой сообщалось: «Есть в Риме у Фомы Ветхословца от царства Константинограда дочь именем Софья; если захочешь взять ее в жены, то пришлём ее в твоё государство». 20 летняя София Фоминична принадлежала к византийской династии Палеологов и приходилась внучкой одному императору и племянницей другому. Но величие и могущество Византии было уже в прошлом. Империя пала, ее император погиб, когда турки взяли Константинополь. Софии вместе с семьёй пришлось бежать в Рим, где знатных беженцев приняли при дворе папы Павла II. Папский престол взял их под свою опеку, и София с двумя младшими братьями вынуждена была перейти в католичество. Иван III догадывался, почему в его семейных делах такое участие принимает папа Римский: принцесса София должна была стать проводником католического влияния на Руси. Греки же вели свою партию: надеясь что Московский князь, став наследником византийского престола, начнет войну с турками и вернёт им престол... А сам Иван игру выстраивал по своим правилам. Просчитывал все до мелочей. И умел выжидать. Он отправил в Рим своего посла, чтобы тот посмотрел на невесту. В Риме даже заказали портрет Софьи одному из тех художников, кто через несколько лет будет расписывать Сикстинскую капеллу. Портрет привезли в Москву, но ответа не последовало. Иван взял долгую паузу. И лишь спустя три года он дал наконец, свое согласие на брак. Для надёжности папа Римский решил провести заочное обручение принцессы Софии по католическому обряду. Это была пышная и абсурдная церемония: ввиду отсутствия жениха его роль исполнял глава Московского посольства Иван Фрязин. Настал момент обменяться кольцами и тут оказалось, что обручальных колец у посланника не имеется. Впрочем, это недоразумение замяли и помолвку благополучно довели до завершения.
Необъятная, непонятная северная страна– ледяная Гиперборея. Софья была потресена чудовищными размерами и малолюдностью владений своего будущего мужа. Редкие города были сплошь деревянные, а их жители в огромных шубах мрачно рассматривали нарядный пестрый обоз. Причиной раздражения русских был папский легат Антонио Бонумбре в своем пламенеющем среди снегов облачении, с выносным латинским крестом, который он упрямо всю дорогу нес впереди процессии. За 15 верст до Москвы обоз встретил посланник великого князя, боярин Федор Хромой, и доходчиво попросил Бонумбре отдать крест. А спустя два месяца легата вежливо выдворят из страны. Этим и окончится запланированная папой католическая экспансия. Москва показалась Софье огромной деревней. Над морем деревянных домиков возвышалась изъеденная временем крепость, бреши в стенах залатаны брёвнами. А сверху, как сыплющее колючей крошкой низкое свинцовое небо. После мраморных дворцов и ярких красок Италии здесь, наверное остаётся только умереть с точки. На главной площади столицы вместо кафедрального собора их встречала маленькая деревянная часовня. Рядом стояла недостроенная каменная коробка, присыпанная снегом. София ещё не успела прийти в себя, как ее повели в храм. Греческой царевне предстояло вернуться в лоно православия и тут же обвенчаться с великим князем. В тесной и душной часовне ее вдруг охватило умиротворение, давно забытое среди холодного мрамора римских базилик. Здесь как в детстве, пахло ладаном и воском, мерцали в полутьме лики святых, и священники в золотых ризах словно сошли со страниц греческих книг. Она как будто вернулась домой... Стоявший рядом у аналоя Великий князь Иоанн – огромный, косматый и громогласный, он буквально заполнял собой все пространство, не давая вздохнуть. Непонятный русский язык в его устах походил на медвежье рычание. Невеста конечно была знатной, но ничего более за душой не имела. Но ему большего и не нужно. Все остальное у него есть. А чего нет, то в скором времени будет. Среди ночи загудел набат. Пожар! Иван бросился на улицу. София только и успела увидеть как он, на ходу отдавая приказания, скакал верхом прямо туда, где в чёрное небо бил столб огня. Как это возможно? Зачем государю самому лезть в огонь? Над Кремлем стояло кровавое зарево. Великий князь как безумный, носился по городу. Его зычный голос перекрывал вопли и треск пламени, выводя людей из паники. И люди шли за ним в бой с огнем. Замирая от ужаса, София видела, как он бросался прямо в гущу пожара, багром растаскивал горящие бревна... Великий князь яростно сражался за свой город, за свои дома, за своих людей. Он был здесь хозяином. Хозяином своей страны. Прежде София не выносила этой странной привычки русского князя, во время беседы подходить слишком близко. Но теперь что то само толкнуло ее к нему грязному, обожжонному и смертельно уставшему. Софья понимала, что этот человек добьется любых своих целей. Он может все. И он ее муж. Кремль удалось отстоять, и строящийся Успенский собор в пожаре не пострадал. Это была грандиозная стройка, которая шла уже несколько лет. Вместо старого храма, маленького и ветхого, который 150 лет назад построил Иван Калита, задумано было возвести огромный собор, по образцу Владимирского, но почти в два раза больше. Таких больных зданий на Руси очень давно не строили. Митрополит дал своих мастеров, опытных зодчих, построивших немало каменных церквей, и заверил князя, что они справятся. Но когда мастера уже выкладывали своды, собор внезапно обрушился. Вызванные из Пскова каменщики осмотрели руины и сделали вывод, что строительный раствор не держит такие объемы. Однако сами строить собор не взялись. Мощь и размах белокаменных храмов Владимира остались в прошлом, по ту сторону монгольского нашествия. Но за тридевять земель, в Италии, зодчие со сказочной лёгкостью возносили к небесам тяжёлые своды дворцов и храмов. Почему бы им не сделать это и в Москве? Митрополит был против. Как можно, чтобы главный собор православной державы строили латиняне, еретеки? На этот раз князь владыку слушать не стал. В Италию отправился его посол Семён Толбузин с наказом, нанять самого лучшего архитектора. Никто из итальянских архитекторов не соглашался ехать на край света, в дикую и непонятную Московию. И все же после долгих поисков и уговоров, Толбузин нашел истинное сокровище. «Хитрости его ради Аристотелем зовётся, писал князю Толбузин. И делал говорит, церковь в Венеции святаго Марка, весьма чудную и хорошую, да и ворота Венецейские деланы, сказывает им же, весьма хитры и хороши» Знаменитейший архитектор долго сомневался, и потребовал за свои услуги баснословную сумму, 10 рублей в месяц! Толбузин был счастлив. Взял же с собой Аристотель сына своего Андрея, да мальчика Петрушею зовут. И пошел на Русь. 54 летний Аристотель Фиораванти, как настоящий человек Ренессанса, умел все. Он был ювелиром, литейщиком, инженером, мог переставлять башни и выпрямлять колокольни. Однако ни одного здания спроектированного Фиораванти, в Италии нет. В Венеции он лишь выпрямил покосившуюся колокольню церкви Сан–Анжело, которая спустя 4 дня обрушилась, и Аристотелю пришлось спешно покинуть город. Позже в Риме он был арестован по обвинению в чеканке фальшивой монеты. Ему удалось оправдаться, но от должности болонского архитектора его освободили. И в этот момент на него словно с неба свалилось предложение от московского князя. По дороге в Москву Аристотель не раз пожалел что пошел на эту авантюру. Но вдруг на подходе к русской столице весенний воздух взорвался триумфальным звоном всех колоколов. Фиораванти был потрясен столь торжественным приветствием. На самом деле это был пасхальный благовест, Москва в то утро праздновала Светлое Христово Воскресение. Осмотрев руины в кремле, Фиораванти отправился изучать прообраз будущего храма, Владимирский Успенский собор. Проведя рукой по гладкой стене, итальянец уверенно заявил: Наши строили. Он уже понял, что здесь ему нужно сделать невозможное. И пошел вабанк. Вопреки воле заказчика восстановить и достроить собор, Аристотель снёс остатки прежних стен, которые возводили до него три года. И начал с нуля создавать шедевр всей своей жизни. Но как на зло, все лето шли проливные дожди. Аристотель остался один на один со своим раскисающим под русским дождем шедевром. А когда наступила осень, стройка и вовсе была заморожена, итальянскому инженеру нашлась новая работа. Великий князь начал большую Новгородскую игру. Уже очень давно сначала владимирские, а потом и московские князья пытались покорить богатую Новгородскую республику, но безуспешно. Независимый Новгород был последним препятствием на пути к объединению земель и созданию единого русского государства. К тому же обладал огромным экономическим потенциалом, который был так необходим Москве в ее борьбе с ордынцами. Господин великий Новгород смог избежать монгольского разорения. Его обширные владения простирались от Балтийского моря до Урала и от белого моря до Волги. Международная торговля и лесные промыслы приносили огромные прибыли. Новгородом управляла корпорация аристократов и богатейших купцов. Это была процветающая боярская республика. Столетиями Новгород мастерски лавировал, недвусмысленно давая понять Москве, что в любой момент может перейти под покровительство Литвы. Именно это Иван решил использовать в своих интересах. Переговоры новгородской знати с литовским князем–католиком были объявлены изменой православию. И теперь Московский князь, как защитник истиной веры, был просто обязан освободить Новгород из лап еретиков. В строгом соответствии с этой идеей была разыграна новгородская операция. Великий князь встал лагерем в трех верстах от города. Москвичи под руководством Аристотеля начали наводить понтонный мост через Волхов. Новгород был взят в осаду и оказался под прицелом московских пушек, заранее отлитых все тем же Фиораванти. Хитроумный итальянец обеспечил Москву стратегическим вооружением. Новгороду нечего было противопоставить этой лавине огня. Спустя две недели осады Великий Новгород сдался. Десятки новгородских бояр, обладателей огромных вотчин, оказались в темнице по обвинению в связях с Литвой, подтвердили свою измену Руси и православию, и были казнены. Тысячи горожан с семьями князь Иван переселил на юг, в московские земли. Новгородские земли отошли в государеву казну. Иван третий разделил их на поместья и раздал своим верным слугам. Великий князь вернулся в Москву победителем. Фиораванти приехал в Москву намного раньше, готовить следующий триумф великого князя. 12 августа 1479 года вся Москва устремилась в Кремль, где будут освящать новый Успенский собор. Никто ещё его не видел, только громада строительных лесов высилась над городом. С грохотом обвалились доски настилов. И едва осела пыль, толпа ахнула. Никто и никогда ещё не видел подобного. « Бысть же та церковь, записал летописец, чудна велми величеством и высотою, светлостью и звонностью пространством, такова же прежде не бывало в Руси, яко един камень » Аристотель Фиораванти, который приписывал себе строительство Венеции, хотя и слыл в Италии инженером и ювелиром, кем угодно но только не архитектором, этот самый Фиораванти в далёкой северной стране создал настоящий шедевр. А для Ивана третьего Успенский собор стал своеобразным манифестом, воплотив идею будущего государства, единство, мощь и размах. Великий князь семимильными шагами шел к осуществлению своих грандиозных планов. В середине лета в Москву пришли дурные вести: хан большой орды Ахмат с бесчисленным войском выступил в поход на Русь, взыскать с Московского князя недоимки за 8 лет. Ахмат шел медленно. Он выжидал, когда на помощь ему двинется его союзников Казимир, великий князь Литовский и король Польский. В сентябре стало известно, орда перешла Оку южнее Калуги, на Литовской территории. Старший сын князя, 22 летний Иван Молодой спешно отправился на русско литовскую границу, и успел туда раньше татар. Московские пушки взяли под прицел все броды пограничной реки Угры. А Иван третий, оставив войска вернулся в Москву. Русь была в кольце врагов. И выхода из этой петли не было. Впервые в жизни великий князь не знал что делать. Бояре советники говорили: Беги государь, и отец твой бегал, и дед, а даже прадед, сам Дмитрий Донской. Государь не должен погибнуть, он светоч, он опора, на нем все держится... Но едва подъехав к Москве, князь попал а плотную хватку разъяренной толпы. Если татары прорвут заслон на Угре, Москве конец. А князь вместо того чтобы стоять насмерть, бросил войска и бежал. С огромным трудом он пробился в Кремль. Там его тоже ждали. Ростовский владыка Вассиан с трудом сдерживался: « Не великий князь ты, чадо, но бегун! Вся кровь на тебя падет христианская, что ты, выдав их татарам, сам бежишь прочь! Смерти боишься? Тогда дай мне, старику, воинов, и я пойду на татар!..» А мать молчала, и тяжёлый взгляд ее жёг князя расплавленным свинцом. Ивану сказать было не чего. Ему нужно было время обдумать, просчитать и взвесить. Но только времени на это не было. Ну Угру поскакал гонец с приказом великого князя сыну, срочно вернуться в Москву. Но Иван Молодой категорически отказался оставить свое войско. Юношеский героизм никак не вписывался в схему великого князя. Пришлось пересчитывать все заново и действовать иначе. И вот тут пригодилась давняя заготовка, крымский хан, с которым Иван Третий много лет назад заключил договор, согласился отправить своих полководцев в поход на земли короля Казимира, и этим вывел его из игры. Теперь война Москвы и Орды шла один на один. Огонь из пушек и пищалей наносил тяжёлый урон ордынцам, когда они пытались форсировать реку, разделяющую войска. Ахмат взял паузу. И тогда свой ход сделал Иван Третий. Он направил к хану своих послов для переговоров. Ахмат надменно требовал, чтобы Иван сам ехал к нему на поклон, как прежде делали русские князья... В ответ московские послы плели витиеватые и уклончивые речи. Вскоре хан стал догадываться, что великий князь просто тянет время. « Зима близко, передал он через посла, реки станут, много дорог будет на Русь ». А между тем, московская разведка доносила, татары измотаны и совершенно не готовы к зиме. Пока Ахмат сидел на Угре, русский отряд по приказу Ивана Третьего успел пройти на ладьях вниз по Волге и хорошо пограбить беззащитный Сарай – столицу Большой Орды. 26 октября ударили первые морозы. Угра замёрзла, исчезло последнее препятствие на пути Орды. 9 ноября хан Ахмат поднял Орду. Но вместо того чтобы переправиться через Угру, развернулся и ушел в степь. Никто не мог понять, почему. Сыграл ли свою роль набег на Сарай, или Ахмат понял что его ободранные и обмороженные воины вот вот взбунтуются? Ещё полтора месяца Иван ждал подвоха, ловушки, обманного маневра. Но орда так и не вернулась. Никогда.
( Стоянием на реке Угре окончилось Монголо–татарское иго, продлившееся 240 лет. Большая(Волжская) орда прекратила свое существование в 1502 году, Казанское и Астраханское ханства будут присоединены к России при Иване Грозном, Сибирское при его сыне Федоре Иоанновиче. Дольше всех просуществует Крымское ханство, с 1475 года находившееся в вассальной зависимости турецкого султана. На протяжении трёх столетий крымские татары будут хозяйничать в Диком поле южнее Курска, совершать набеги и брать дань с русских царей. Крым войдёт в состав Российской империи только в 1783 году, при Екатерине Второй.)
Сбылись чаяния многих поколений. Русь получила свободу. Ордынское иго осыпалось пеплом. И во всю мощь развернулась сила и слава независимого Русского государства. Предстояло заново отстроить весь Кремль: башни, стены, храмы и дворцы, и сделать это по мнению Ивана, могли только итальянцы–лучшие архитекторы Европы. Давний соратник Фиораванти, составил генеральный план фортификационных сооружений Кремля. Но архитектон был уже стар и вымотан на Московской службе, теперь требовались новые мастера. Зодчего Антонио Джиларди, по московски Антона Фрязина, великий князь помнил ещё мальчишкой. 16 лет назад он приехал в составе римского посольства, да так и прижился. Из Милана за большие деньги выписали палатных дел мастера Марко Руффо. Ещё обещал приехать знаменитый архитектор Пьетро Антонио Солари, когда закончит работы у миланского герцога. А задачу великий князь поставил такую: чтобы крепость сию никакому войску не взять, и чтобы глаз от нее отвести невозможно. И чтобы каждый кто видит ее, нутром бы чуял, сколь мощна, нерушима и священна держава под его, великого государя, властью. На шестой год великой стройки Пьетро Антонио Солари с гордостью показал князю главную, парадную часть княжеского дворца, белоснежную Грановитую палату. Внутри сводчатый зал русских теремов, снаружи граненые камни, как у итальянских палаццо. Вот так же, как будто из под строительных лесов, неожиданно для всей Европы вместо глухой северной страны, полудикой, полунищей, зависимой от татар, вдруг возникла держава, с которой теперь приходилось считаться даже священной Римской империи. Не Московская Русь, и не Московия, как ее пренебрежительно называли ревнивые литовцы, но Россия.
Посол императора Фридриха III Габсбурга торжественно передал русскому князю предложение принять королевский титул. Но Иван Васильевич с пренебрежением отказался от столь высокой чести, теперь он именовался просто: « Иоанн, государь всея Руси и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных земель » По своей территории Россия почти не уступала Священной Римской империи. И потому, в знак равенства с императором запада русский государь велел разместить на своей печати двуглавого орла: это была родовая эмблема византийской династии Палеологов, к которой его жена София принадлежала по праву рождения, а сам Иван по праву супружества. Так появился официальный символ русского царства, который станет государственным гербом Российской империи, будет отменён после революции и возродиться вновь в современной России.
А ведь было время, государь сам в походы ходил, сам пожары тушил, разметывая горящие головни, сам слушал жалобы новгородцев до одурения... Аристотель тогда не мог уразуметь, зачем? А потом понял. И гордился! Для какого-нибудь венецианского дожа немыслимо было вот так вот вскарабкаться на леса, сидеть запросто с архитектором свесив ноги, и беседовать по душам... Теперь уже князю никуда не влезть. Отяжелел, от шагов его брякает серебряная посуда, а челядь вжимается в стены... И беседовать ему теперь не с кем. Все его боятся. Все! Аристотель на старости лет тоже струсил и собрался было домой, в Болонью... Да куда там! Был посажен под замок, как пес–знай себе цену, архитектон. Видно судьба тебе тут помереть. А князь и не вспомнит. Австрийский дипломат барон Сигизмунд Герберштейн писал о государе Иване Третьем: « Для бедных и угнетенных доступ к нему был прекращён. Во время обеда он до такой степени предавался опьянению, что его одолевал сон. Причём все приглашённые были поражены страхом и молчали. Он никогда не бывал в сражении, и всегда одерживал победу. Великий Стефан Молдавский говорил, что пока сам он, ежедневно сражаясь едва в состоянии защитить свои границы, Иоанн, сидя дома и предаваясь сну, умножает свою державу »
( В результате необъявленой войны с Великим княжеством Литовским, который завершилась большими походами Москвы на Запад, к России отошли пограничные земли и Вязьма. Следующая война велась уже более значительными силами. Войска Ивана нанесли сокрушительное поражение войскам великого князя литовского, и в результате к России отошла треть территории Литвы, с городами Чернигов, Новгород Северский, Гомель, Брянск, Дорогобуж и другими.)
Его непреклонная воля железными обручами скрепляла необъятные земли России. Но в его собственной семье порядка не было. Отношения между его сыном Иваном и Софьей не сложились. Да и за что княгине было любить своего пасынка? Этот мальчишка навсегда перекрыл дорогу к власти ее сыну Василию, потомку Палеологов. Одно время была у неё надежда, может быть сгинет наследник в битве с татарами, и освободит место? Но не сложилось. Иван Молодой вернулся с победой, женился на Молдавской княжне Елене Волошанке, и та родила ему сына Дмитрия. Великий князь Иван Васильевич благоволил молодым и по стариковски умилялся первому внуку, черноглазому и улыбчивому Матюше. Софья с трудом скрывала своё раздражение. Но держать лицо отпрыски Палеологов умели с раннего детства. Однажды итальянский лекарь обратил внимание, что князь Иван Молодой страдает от боли в ногах, и предложил свои услуги. В ходе лечения состояние больного резко ухудшилось, и вскоре он умер. Лекаря казнили, расследования не было, несмотря на упорные слухи о том, что лекарь подослан Софьей. Казалось государь Иван Васильевич под старость утратил свою хватку. Московская знать в ожидании его скорой кончины уже разбивалась на две партии: одни за старую княгиню Софью с сыном Василием, другие за молодую вдову Елену с сыном Дмитрием. Однако Иван Третий умирать не собирался. Он сделал свой выбор в пользу внука Дмитрия. И тогда Софья пошла ва-банк. Составился боярский заговор, целью которого было возвести на престол ее сына Василия. Заговор был раскрыт, и все его участники арестованы. Василий оказался под домашним арестом, Софья в опале. Следствие выяснило, что через лихих баб она якобы раздобыла яд и собиралась отравить Дмитрия, а может быть, и самого государя... 4 февраля 1498 года в Успенском соборе состоялась первая в русской истории церемония венчания на царство, разработанная по византийскому образцу. Митрополит возложил « шапку Мономаха » Древний символ власти Московских князей, на голову 14 летнего Дмитрия Ивановича. Иван Третий торжественно передал внуку семейные реликвии. Но спустя год Иван вдруг пересмотрел свой выбор. Он простил сына Василия, и не только дал ему в княжение Псков с Новгородом, но и нарек его государем великим князем... Теперь в стране было сразу три великих князя-отец, сын и внук. А это, прямая дорога к смуте. Правитель должен быть один. И кого бы Иван ни выбрал, сына Ваську, который старательно отращивает первую бородку, или внука глазастого Митюшу, другого он обречёт на гибель. Иван Васильевич думал три года. А потом, как записал автор Устюжской летописи, посадил сына своего Василия на великое княжение, а внука своего Дмитрия посадил в камень и железа на него положил. Весной 1503 года, умерла великая княгиня Софья. Она прожила с Иваном больше 30 лет, и родила ему пятерых сыновей и семь дочерей, и все таки добилась того, чтобы русский престол остался за ее сыном, потомком Палеологов. Овдовевший князь Иван Васильевич поехал с сыновьями на богомолье в Троицкий монастырь, а по возвращению в Москву с ним случился удар и частичный паралич, отняло руку, ногу и глаз. В таком состоянии он управлял державой и вёл войны ещё полтора года. Иван Васильевич умирал. За окнами плыл колокольный звон, был праздник святого мученика Дмитрия Солунского. Именины внука Митюши, уже три года запертого в сыром подвале кремлевской тюрьмы. Перед смертью Иван призвал внука Дмитрия и сказал ему: Дорогой внук, я согрешил перед богом и тобою, заключив тебя в темницу. Молю тебя, отпусти мне обиду, будь свободен и пользуйся своими правами. Растроганный этой речью, Дмитрий охотно простил деду его вину. Но когда он вышел от него, то был схвачен по приказу своего дяди Василия и брошен в темницу. Одни полагают что он погиб от голода и холода, другие что задохнулся от дыма... Иван Васильевич об этом уже не узнал. Перед самой кончиной митрополит соборовал его и хотел готовить по древнему обычаю к принятию иноческого пострига, но князь отказался. К чему пытаться обмануть Всеведущего Господа, который будет судить раба своего Иоанна не по остриженным власам и чёрным одеждам, а по совершенным делам. Иван III оставил своему наследнику страну в несколько раз большую той, что когда-то унаследовал он сам. Первый самодержец русской истории, он диктовал свою волю всем, а тех, кто вставал на его пути, уничтожал без милости и без сожаления. Первый за 220 лет князь, который никогда не ездил в Орду за подтверждением своих полномочий, и свой титул великого князя носил без ханского ярлыка. Избавив Россию от Орды, он создал между Европой и Азией мощное государство. Того, что он успел, хватило бы на несколько человеческих жизней, а то что задумал, составит основное содержание русской истории на ближайшие 200 лет. В полной мере грандиозный замысел Ивана Великого сумеет воплотить только следующий правитель с прозванием Великий, Петр Первый, создатель Российской империи.
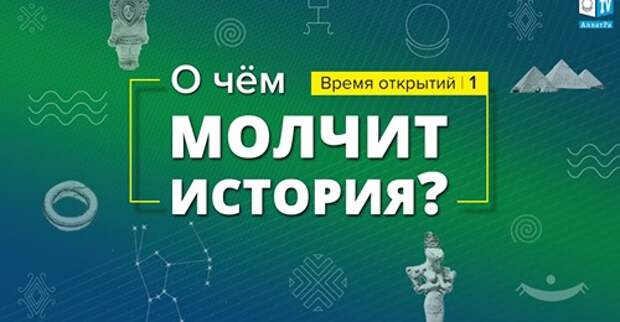

Азбука Елизавета Бём 1843
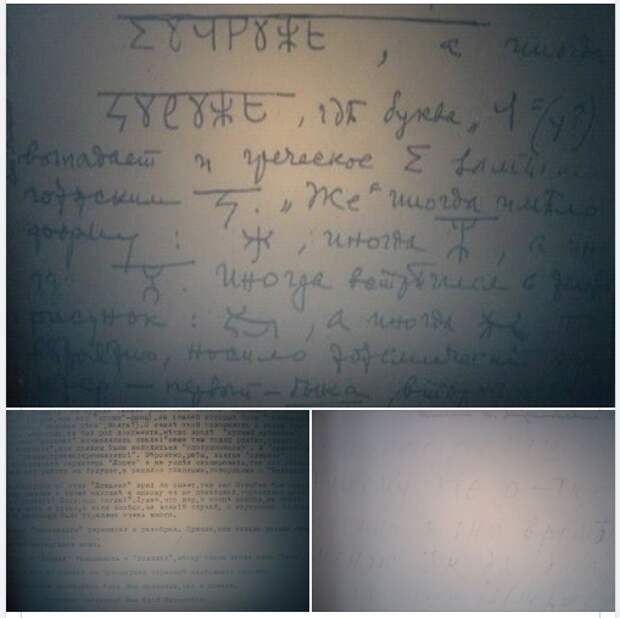
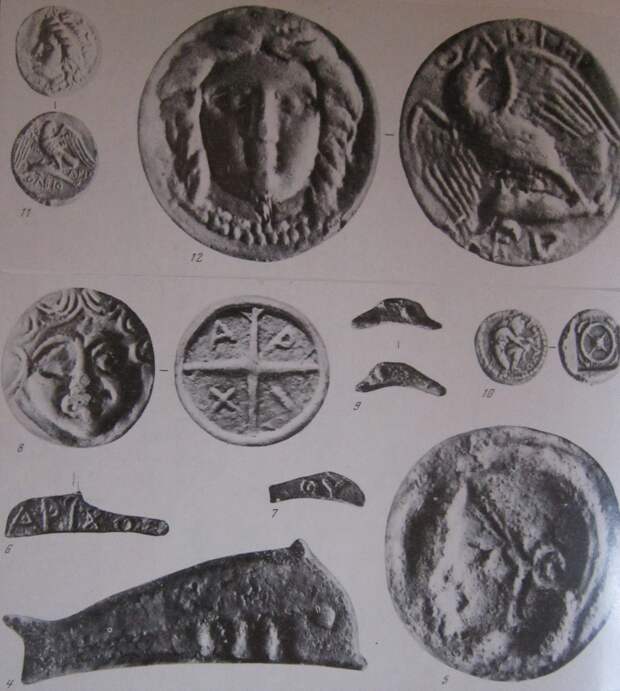
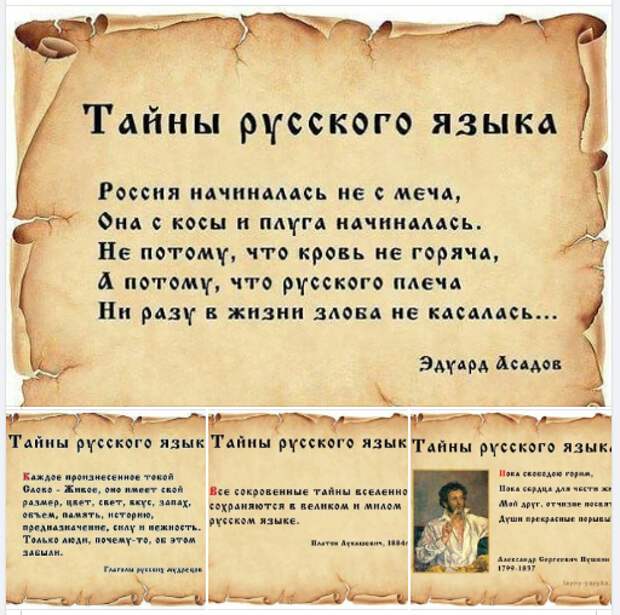
Свежие комментарии